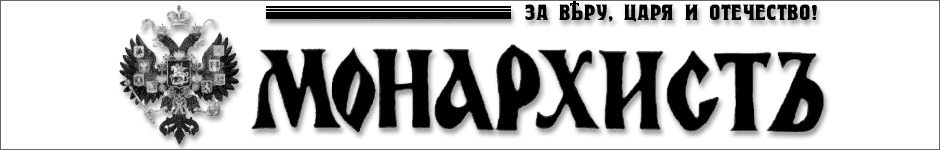Величайшие русские православные подвижники ХХ столетия призывали народ к покаянию в грехе измены Помазаннику Божию, бунта и цареубийства, а также нарушения соборной клятвы на верность Дому Романовых, принесенной Великим Земским и Поместным Церковным собором 1613 года. Только так, объясняли они, Россия может вернуть себе милость Божию, возродиться в своем подлинном облике, вернуться к исполнению своей исторической миссии.
Но нет, «дети революции» предпочитают «дополнять меру отцов своих» (см. Мф. 23, 32).
Статьи
Великая Княгиня Мария Владимировна: Объявлять Николая II виновником революции – безответственная демагогия
Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна благоволила ответить на вопросы редактора газеты «Монархист» М. Кулыбина.
– Ваше Императорское Высочество, наступил год 100-летия величайшей катастрофы русской истории – революции 1917 года. В связи с этим в обществе развернулась острая дискуссия, посвященная событиям того времени. Большой популярностью в некоторых кругах пользуется версия, что главный виновник катастрофы – Император Николай II, который своим «безволием» будто бы довел страну до упадка, отдал власть «темным силам», проиграл войну, результатом чего и стала революция. Что Вы думаете об этой версии и в чем видите главные причины трагедии?
– Любые попытки связать победу или катастрофу с именем какого-то одного человека или даже группы лиц представляются мне или наивным упрощением, или сознательным уходом от исследования истинных причин исторических процессов и явлений.
– Ваше Императорское Высочество, наступил год 100-летия величайшей катастрофы русской истории – революции 1917 года. В связи с этим в обществе развернулась острая дискуссия, посвященная событиям того времени. Большой популярностью в некоторых кругах пользуется версия, что главный виновник катастрофы – Император Николай II, который своим «безволием» будто бы довел страну до упадка, отдал власть «темным силам», проиграл войну, результатом чего и стала революция. Что Вы думаете об этой версии и в чем видите главные причины трагедии?
– Любые попытки связать победу или катастрофу с именем какого-то одного человека или даже группы лиц представляются мне или наивным упрощением, или сознательным уходом от исследования истинных причин исторических процессов и явлений.
Простая истина 96
Высшее назначение Монархии прозрели у нас поэты, а не законоведцы…Поэты наши прозревали значение высшее Монарха, слыша, что он неминуемо должен, наконец, сделаться весь одна любовь и таким образом станет видно всем, почему Государь есть образ Божий, как это признает, покуда чувством, вся земля наша.
Великий русский писатель Николай Гоголь
Великий русский писатель Николай Гоголь
Сущность монархии и республики
Редакция «Монархиста» в целом не разделяет младоросскую идеологию. Тем не менее, в этом номере, в рубрике «Русская публицистика» мы републикуем (с незначительными сокращениями) статью лидера младороссов Александра Казем-Бека. Во-первых, некоторые высказанные в ней мысли сохраняют актуальность и по сей день, во-вторых, современным монархистам полезно изучать наследие своих предшественников в эмиграции во всей его полноте, а в-третьих, предлагаемый текст позволит многим понять, что идеология младороссов состояла не только из лозунга «Царь и советы!».
«Непредрешенцы» безразлично относятся к монархии и республике главным образом потому, что считают их формами правления. В этом и коренится их заблуждение. Разумеется, вопрос формы правления – вопрос второстепенный. Гораздо важнее и существеннее самое содержание государственности. Содержание государственности создает ту или иную гражданскую этику, ту или иную общественную мораль. Если бы монархия и республика были основаны на одном и том же этическом принципе, то есть, если бы содержание, заключенное в них, как в форму, было одним и тем же, – можно было бы считать, что вопрос о монархии и республике есть вопрос лишь формы.
Однако самое поверхностное рассмотрение идеалов монархии и идеалов республики – то есть их содержания – приводит к логически неизбежному выводу, что природа монархии совершенно отлична от природы республики. Монархическая идея подчинена идеалу нравственному. В основу ее заложен закон этического, иррационального порядка. Республиканская идея подчинена идеалу умственному. В ее основу заложен закон рассудочного, рационального порядка. Поэтому если монархия и республика в их внешнем выявлении и могут быть признаны формами, то монархия – есть форма религиозного начала в государственности, тогда как республика – есть форма рационалистического начала. Такова сущность монархии и республика, так сказать, классического типа. Те или иные отклонения от общего правила, в зависимости от исторических эпох или национальных черт того или иного народа, этого правила не опровергают.
«Непредрешенцы» безразлично относятся к монархии и республике главным образом потому, что считают их формами правления. В этом и коренится их заблуждение. Разумеется, вопрос формы правления – вопрос второстепенный. Гораздо важнее и существеннее самое содержание государственности. Содержание государственности создает ту или иную гражданскую этику, ту или иную общественную мораль. Если бы монархия и республика были основаны на одном и том же этическом принципе, то есть, если бы содержание, заключенное в них, как в форму, было одним и тем же, – можно было бы считать, что вопрос о монархии и республике есть вопрос лишь формы.
Однако самое поверхностное рассмотрение идеалов монархии и идеалов республики – то есть их содержания – приводит к логически неизбежному выводу, что природа монархии совершенно отлична от природы республики. Монархическая идея подчинена идеалу нравственному. В основу ее заложен закон этического, иррационального порядка. Республиканская идея подчинена идеалу умственному. В ее основу заложен закон рассудочного, рационального порядка. Поэтому если монархия и республика в их внешнем выявлении и могут быть признаны формами, то монархия – есть форма религиозного начала в государственности, тогда как республика – есть форма рационалистического начала. Такова сущность монархии и республика, так сказать, классического типа. Те или иные отклонения от общего правила, в зависимости от исторических эпох или национальных черт того или иного народа, этого правила не опровергают.
Образовательные системы: имперская, советская и федеральная
(Окончание. Начало в №№ 94, 95)
После катастрофы 1917 года
После 1917 года подход был радикально изменен. Имело место не «развитие» или «улучшение», а полный слом парадигмы. Осуществление революционных требований по созданию «единой школы» в 1920-е годы не просто ликвидировало «социальное неравенство», одновременно с этим оно фактически ликвидировало и само «продвинутое» образование как таковое.
Сопоставление сроков обучения, учебных программ и, самое главное, качества обучения в дореволюционных и послереволюционных школах показывает, что советская «средняя» школа, например, являлась преемницей не гимназий и других учебных заведений гимназического уровня (общий срок обучения в которых с момента поступления в начальную школу составлял 11-12 лет), а «высших начальных» учебных заведений со сроком обучения (включая начальную школу) 7-9 лет.
И дело не только в длительности обучения. Выпускник царской гимназии обычно имел уровень знаний по гуманитарным предметам (языки, историко-филологические, философские дисциплины, право), которого не достигали выпускники соответствующих советских вузов. Гимназический уровень по освоению математики и естественнонаучных дисциплин в СССР достигался только в единичных физико-математических спецшколах. Еще более существенно, что советская школа не давала той полноты и целостности образования, которая представляла гимназия через изучение математических, историко-филологических и философско-богословских наук, формировавшая основополагающие интеллектуальные и эстетические способности и целостное отношение к культуре и миру.
После катастрофы 1917 года
После 1917 года подход был радикально изменен. Имело место не «развитие» или «улучшение», а полный слом парадигмы. Осуществление революционных требований по созданию «единой школы» в 1920-е годы не просто ликвидировало «социальное неравенство», одновременно с этим оно фактически ликвидировало и само «продвинутое» образование как таковое.
Сопоставление сроков обучения, учебных программ и, самое главное, качества обучения в дореволюционных и послереволюционных школах показывает, что советская «средняя» школа, например, являлась преемницей не гимназий и других учебных заведений гимназического уровня (общий срок обучения в которых с момента поступления в начальную школу составлял 11-12 лет), а «высших начальных» учебных заведений со сроком обучения (включая начальную школу) 7-9 лет.
И дело не только в длительности обучения. Выпускник царской гимназии обычно имел уровень знаний по гуманитарным предметам (языки, историко-филологические, философские дисциплины, право), которого не достигали выпускники соответствующих советских вузов. Гимназический уровень по освоению математики и естественнонаучных дисциплин в СССР достигался только в единичных физико-математических спецшколах. Еще более существенно, что советская школа не давала той полноты и целостности образования, которая представляла гимназия через изучение математических, историко-филологических и философско-богословских наук, формировавшая основополагающие интеллектуальные и эстетические способности и целостное отношение к культуре и миру.
Заметки на полях современности
К вопросу о российской нации
Недавно на самом высоком уровне вновь была озвучена идея о формировании российской политической нации.
Инициатива естественным образом была встречена в штыки значительной частью общества, особенно – представителями русских национально-ориентированных объединений, что, впрочем, неудивительно. «Профессиональные» антикоммунисты углядели в этой идее попытку создать второй «советский народ».
Многие обрушились с критикой на само слово «россиянин». С.Говорухин, успевший за свою политическую жизнь покочевать от Демпартии России через «Отечество – вся Россия» и поддержку коммунистов до «Единой России», и вовсе назвал это слово «отвратительным». Националисты, разумеется, возмутились в том смысле, что «никогда мы россиянами не были, а только русскими».
Мне представляется, что такая реакция в значительной степени обусловлена эмоциональной, а не вдумчивой оценкой инициативы.
Недавно на самом высоком уровне вновь была озвучена идея о формировании российской политической нации.
Инициатива естественным образом была встречена в штыки значительной частью общества, особенно – представителями русских национально-ориентированных объединений, что, впрочем, неудивительно. «Профессиональные» антикоммунисты углядели в этой идее попытку создать второй «советский народ».
Многие обрушились с критикой на само слово «россиянин». С.Говорухин, успевший за свою политическую жизнь покочевать от Демпартии России через «Отечество – вся Россия» и поддержку коммунистов до «Единой России», и вовсе назвал это слово «отвратительным». Националисты, разумеется, возмутились в том смысле, что «никогда мы россиянами не были, а только русскими».
Мне представляется, что такая реакция в значительной степени обусловлена эмоциональной, а не вдумчивой оценкой инициативы.
И.Солоневич о генералитете как ударной силе Февраля
На протяжении 75 лет пореволюционной истории России события февраля-марта 1917 года оставались как бы в тени «Великого Октября». Советские историки представляли «вторую русскую революцию» довольно сумбурно и неправдоподобно: рабочий люд вышел на улицы Петрограда с криками «Хлеба!» и слабовольный монарх отрекся от престола. Все очень просто и совершенно непонятно.
Несмотря на то, что в последние 25 лет Февралю уделено несравнимо большее внимание профессиональных, полупрофессиональных и совсем непрофессиональных историков, разобравших ход «бескровной» буквально по дням, часам и чуть ли не минутам, по действующим лицам, городам и весям, по тому, кто, что и когда делал или не делал, за пределами исследований, как правило, остается, быть может, более важный вопрос: «Почему?» Каковы причины того, что генерал-адъютанты Императора и политики, искренне уверенные в монархичности своих взглядов, совершили именно антимонархический переворот? Являются ли заявленные ими причины истинными, а истинные – осознанными?
Несмотря на то, что в последние 25 лет Февралю уделено несравнимо большее внимание профессиональных, полупрофессиональных и совсем непрофессиональных историков, разобравших ход «бескровной» буквально по дням, часам и чуть ли не минутам, по действующим лицам, городам и весям, по тому, кто, что и когда делал или не делал, за пределами исследований, как правило, остается, быть может, более важный вопрос: «Почему?» Каковы причины того, что генерал-адъютанты Императора и политики, искренне уверенные в монархичности своих взглядов, совершили именно антимонархический переворот? Являются ли заявленные ими причины истинными, а истинные – осознанными?
Простая истина 95
Именно в строительстве Русского Православия и Русской Монархии творческие силы нашего народа выразились с наибольшей полнотой и яркостью. Русская Монархия не была результатом чьей бы то ни было узурпации, завоевания или подавления. Она была естественным результатом работы тех «не слышных органических причин», которые из века в век неуклонно строили здание Русской Монархии.
О русском христолюбивом воинстве
В этом номере мы републикуем статью известного эмигрантского литератора и публициста Григория Месняева, посвященную нравственному облику воинов Русской Императорской Армии.
14 июля 1904 года Высочайше был утвержден «Наказ русской армии о законах и обычаях сухопутной войны». В этом наказе, в той части, в которой он касался солдат, в частности, были такие пункты:
«2. Рази врага в честном бою. Безоружного врага, просящего пощады, не бей.
3. Уважай чужую веру и ее храмы.
4. Мирных жителей неприятельского края не обижай, их имущества сам не порти и не отымай, да и товарищей удерживай от этого. Жестокость с обывателями только увеличивает число наших недругов. Помни, что солдат – Христов и Государев воин, а потому и должен поступать как христолюбивый воин.
5. Когда окончилось сражение, раненого жалей и старайся по мере сил помочь ему, не разбирая – свой ли он или неприятельский. Раненый уже не враг твой.
6. С пленными обращайся человеколюбиво: не издевайся над его верою, не притесняй пленного и не трогай его имущества».
А как этот наказ преломлялся в жизни, на полях сражений, красноречиво говорит нижеследующее письмо, адресованное русской армии японцами. По-русски оно гласит:
14 июля 1904 года Высочайше был утвержден «Наказ русской армии о законах и обычаях сухопутной войны». В этом наказе, в той части, в которой он касался солдат, в частности, были такие пункты:
«2. Рази врага в честном бою. Безоружного врага, просящего пощады, не бей.
3. Уважай чужую веру и ее храмы.
4. Мирных жителей неприятельского края не обижай, их имущества сам не порти и не отымай, да и товарищей удерживай от этого. Жестокость с обывателями только увеличивает число наших недругов. Помни, что солдат – Христов и Государев воин, а потому и должен поступать как христолюбивый воин.
5. Когда окончилось сражение, раненого жалей и старайся по мере сил помочь ему, не разбирая – свой ли он или неприятельский. Раненый уже не враг твой.
6. С пленными обращайся человеколюбиво: не издевайся над его верою, не притесняй пленного и не трогай его имущества».
А как этот наказ преломлялся в жизни, на полях сражений, красноречиво говорит нижеследующее письмо, адресованное русской армии японцами. По-русски оно гласит:
Образовательные системы: имперская, советская и федеральная
(Продолжение. Начало в № 94)
Высшее образование
Аналогично с гимназическим, развивалась система российского высшего образования. На рубеже XIX-XX веков в Российской Империи обучалось чуть больше 40 тыс. студентов. В Германии, лидировавшей тогда в Европе, в 1903 году в университетах училось 40,8 тыс. человек, в высших технических учебных заведениях – 12,2 тыс., в специальных академиях – 3,9 тыс. На всех «факультетах» Франции в 1906 году училось 35,7 тыс. студентов, еще 5-6 тыс. обучалось в специальных учебных заведениях других ведомств и католических институтах. В университетах Великобритании в 1900-1901 годах училось около 20 тыс. человек, в учительских колледжах (training colleges в Англии и Уэльсе и colleges of education в Шотландии) – 5 тыс. Из этих данных видно, что система российского высшего образования по абсолютным показателям была сопоставима с системами других ведущих европейских стран. При этом российская система развивалась значительно быстрее. Между 1906 и 1914 годом имел место беспрецедентный рост. В итоге к началу I Мировой войны российская система высшего образования сравнялась с ведущими европейскими и по соотношению численности студентов к населению страны.
Число студентов высших учебных заведений на 10 тыс. жителей:
1899-1903 годы: Россия – 3,5, Англия – 6, Германия – 8, Франция – 9;
1911-1914 годы: Россия – 8, Англия – 8, Германия – 11, Франция – 12.
Высшее образование
Аналогично с гимназическим, развивалась система российского высшего образования. На рубеже XIX-XX веков в Российской Империи обучалось чуть больше 40 тыс. студентов. В Германии, лидировавшей тогда в Европе, в 1903 году в университетах училось 40,8 тыс. человек, в высших технических учебных заведениях – 12,2 тыс., в специальных академиях – 3,9 тыс. На всех «факультетах» Франции в 1906 году училось 35,7 тыс. студентов, еще 5-6 тыс. обучалось в специальных учебных заведениях других ведомств и католических институтах. В университетах Великобритании в 1900-1901 годах училось около 20 тыс. человек, в учительских колледжах (training colleges в Англии и Уэльсе и colleges of education в Шотландии) – 5 тыс. Из этих данных видно, что система российского высшего образования по абсолютным показателям была сопоставима с системами других ведущих европейских стран. При этом российская система развивалась значительно быстрее. Между 1906 и 1914 годом имел место беспрецедентный рост. В итоге к началу I Мировой войны российская система высшего образования сравнялась с ведущими европейскими и по соотношению численности студентов к населению страны.
Число студентов высших учебных заведений на 10 тыс. жителей:
1899-1903 годы: Россия – 3,5, Англия – 6, Германия – 8, Франция – 9;
1911-1914 годы: Россия – 8, Англия – 8, Германия – 11, Франция – 12.